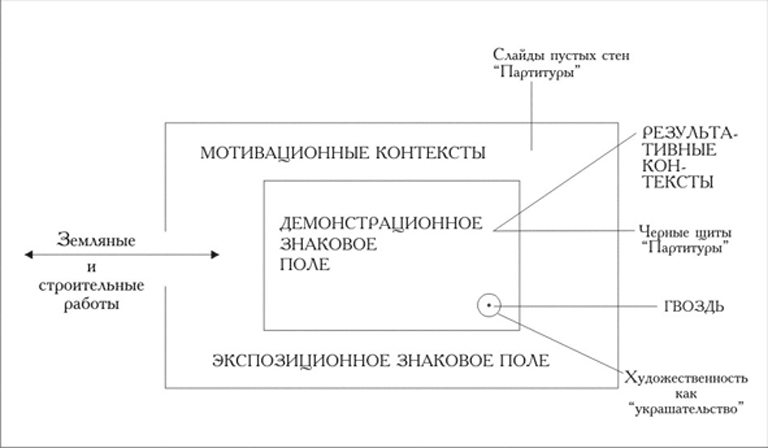Традиционный эстетический дискурс направлен чаще всего от языка к сущему, то есть критик как бы разглядывает сквозь произведения того или иного автора действительность - природу, социальные отношения, идеалы, не забывая, конечно, описать - с учетом своей “смотровой площадки”, на которую он заброшен временем, - и особенности устройства той “линзы” (стиля, направления художника), сквозь которую он судит об эпохе.
Концептуализм, совместив в себе критику и артистическое поведение, выработал в результате этого необычного симбиоза и особый концептуальный дискурс, границы которого оказались чрезвычайно широкими (особенно в советском концептуализме, так как советские концептуалисты 70-х начала 80-х годов действовали по принципу “голь на выдумки хитра” - самостоятельно писали исследования о своих работах - ведь внешней критики практически не существовало). В этих исследованиях, как правило, тоже артикулировалось некое сущее, но сущее как бы все время ускользающее. Концептуальный критик, постоянно вопрошающий в художнике-концептуалисте, не мог указать на сущее как на что-то окончательное, как на то, что он на самом деле имел в виду - каждое указанное, отрефлектированное место в дискурсе становилось знаком и, следовательно, не сущим, а продолжением концептуальной работы, ее контекстуальной части, все время расширяющейся. В конце концов дело дошло до того, что граница между языком (опосредованностью) и сущим энтропировалась, размылась в полную пустоту. Другими словами, сущее стало “сущим”, закавычилось, превратилось в обиходный знак, в обычный языковой феномен, опорную точку, от которой можно было начать “обратный” дискурс - от “сущего” к языку. Причем язык здесь мыслится как некая целевая верхняя перспектива, сложная - по сравнению с “сущим” - и “онтологизированная” данной дискурсивной подменой система отношений, вроде железобетонных конструкций цокольного этажа, а “сущее” - как дно ямы, земля, на которую и должна опираться вся эта верхняя конструкция “обратного” дискурса.
На “возвратном пути” этого дискурсивного усилия “вверх”, от “сущего” к языку мы можем позволить себе обнаружить ту самую мучительную для философии кантовскую дорецептивность (или хайдеггеровское “предпонимание”), но уже с некоторой глубиной и культурной проработанностью в виде текстового пространства, способного порождать свою особую предметность на основе свойственной ему проблематики, связанной с природой и видами контекстов (т.е. обозначить этот дорецептивный люфт, его глубинность как мето-или-пра-контекстуальное пространство и сделать его предметом рассмотрения концептуальной критики). Таким образом, мы получаем возможность рассмотреть контекстуальную
предметность, онтологию контекста, в то время как традиционная эстетическая критика обычно имеет дело с
инструментальной стороной контекста (социальный контекст, исторический, религиозный, искусствоведческий, бытовой и т.д.).
Очень важно, что контекстуальная предметность обнаружилась в процессе развития концептуального дискурса как бы сама собой, по необходимости: “уйдя” невероятно далеко от концептуальной картины в ее толковании, художник-концептуалист оказался как бы в безвоздушном, беспредметном пространстве и, полностью потеряв ориентацию (у Кабакова есть работа, которая называется “Бывают такие состояния, когда не знаешь, где право, где лево, где верх, где низ”), ему ничего не оставалось, как опереться о стену, на которой эта картина висит.
Со мной это произошло в буквальном смысле слова. Когда я делал экспозиционный ряд к акции
“Партитура”, состоящий из четырех черных щитов, то, прибивая их к стенам длинными гвоздями и обматывая гвозди белыми веревками, я эстетически
почувствовал, что места крепления этих щитов к стенам гвоздями и есть те эстетические точки опоры, предметность изображения (и план содержания) экспозиционного ряда “Партитуры”: место крепления, крепеж - чисто технический момент, техницизм, оказался для меня эстетическим. “Оперевшись” таким образом о реальную стену, я обнаружил ее как эстетически напряженную и определил ее как экспозиционное знаковое поле, которое соприкасается (в буквальном смысле через гвоздь) с демонстрационным знаковым полем, состоящим из материальной предметности концептуальной картины и текстовой предметности ее интерпретаций (контексты). Причем в моем случае с черными щитами “Партитуры” текстуальная предметность (контекст) оказалàсь абсолютно “непрозрачной”: о ней ничего нельзя сказать, кроме того, что она самоопределяется как демонстрационное поле с замкнутой на себя же художественностью как чистым “украшательством” (обмотанные веревкой крепежные гвозди). Но с другой стороны, выраженная только как “демонстрационность” демонстрационного поля, в расширенной предметности всей акции “Партитура”, а именно в сочетании с ее слайдовым рядом (30 слайдов, изображающих обои стен той же комнаты, в которой после съемок этих слайдов были повешены черные щиты, закрывшие собой снятые на слайды участки обоев), онà, эта “демонстрационность”, породила знак - составленный из черных щитов и слайдов стен, - указывающий на стены как на экспозиционное знаковое поле, т.е. дала возможность ввести в концептуальный дискурс это понятие, оперируя которым мы можем получить конкретные, вариативные артикуляции текстового пространства дорецептивного “люфта”. Иными словами, парадигматика, открывающаяся с введением этого понятия дает нам возможность проработки “цокольного этажа” нашего дискурсивного усилия “вверх”, от “сущего” к языку.
Первое, что бросается в глаза при исследовании природы экспозиционного знакового поля, это то, что оно, в отличие от демонстрационного знакового поля (картины и текстовые комментарии к ним), принадлежит не художнику, а государству, и его предметность практически не знает границ: стены квартир и мастерских, музеев, заводов, институтов (и внешние, и внутренние), земля, принадлежащая колхозам и совхозам, дороги, одним словом все, включая водные ресурсы и воздушное пространство - разве только снег и огонь остаются бесхозными, во всяком случае о них нигде не сказано как о государственной собственности.
Далее можно с определенностью сказать, что все, что находится, и все, что происходит на этом экспозиционном знаковом поле поставлено в отношение мотивационных контекстов к художественному творчеству. Причем предметность, онтология этого мотивационного контекста (как и всякая
предметность) артикулирована не через социальные, политические или какие-либо иные связи и отношения, а через предметные изменения - строительство дорог, рытье канав, ям для фундаментов, строительство зданий, распахивание полей и т.п. Экономические же, социальные и политические связи и отношения являются инструментальными по отношению к предметности и ее изменениям на экспозиционном знаковом поле (поле мотивационных контекстов). Изменения этих связей и отношений реально артикулируются в разного рода перестройках экспозиционной предметности.
В нашем регионе как в самом идеологизированном, эти предметные изменения на экспозиционном знаковом поле (потому-то оно здесь и выявилось как напряженно знаковое) случались, как известно, довольно часто и носили кардинальный характер, причем мотивировались они не экономическими соображениями, а идеологическими (например, переделывание зданий церквей под склады, потом под музеи и т.д.).
И однако с полной определенностью можно сказать, что любая перестройка в своей
предметности всегда шла (и идет) по одним и тем же законам: роется яма для фундамента здания, строятся подземные коммуникации и само здание, прокладываются новые (или исправляются старые) дороги. Предметность этих земляных и строительных работ обязательна для любого серьезного изменения на экспозиционном знаковом поле. Более того, рассматривая их и как знаковые изменения, вполне можно задуматься и о том, в каком причинно-следственном отношении они находятся к изменениям политических, экономических и т.п. структур. Вопрос: что чему предшествует остается открытым.
Обычно художник, ангажированный социальной конъюнктурой, связан с экспозиционным знаковым полем функцией “украшательства” - либо он его “украшает” с помощью какой-либо устоявшейся традиции пейзажами или психологическими портретами ( и тогда он практически “непроницаем” для мотивационной контекстуальности экспозиционного знакового поля), либо он “отражает” всякого рода перестройки на этом поле (также через конкретную предметность - “украшая” или “критикуя” эти перестройки) - и тогда он “проницаем” для мотивационного контекста, но “проницаемость” эта допускается официальной культурой только до той степени, пока она не выходит за рамки функции “украшения” (включая и “критические” работы, “украшательство” которых носит диалектико-корректирующий характер и определяется уже как “красота” или “безобразие”. “Безобразие” на экспозиционном поле не допускается, рассматривается либо как хулиганство, либо как бездарность).
Неангажированные социумом (подпольные) художники, в Советском Союзе предоставленные самим себе, на протяжении многих лет находились в совершенно свободном отношении к экспозиционному знаковому полю, которое их окружало. Они могли как угодно экспериментировать со степенями “проницаемости” мотивационного контекста на своих демонстрационных полях, могли делать любое “безобразие” у себя в подвалах и на чердаках, и даже, более того, могли довести степень этой “проницаемости” до абсолютной, как это случилось с Кабаковым.
В начале 70-х годов (или даже раньше) Кабаков начал рисовать картины и альбомы с пустым белым центром (изображение помещалось по краям). Социальный мотив и мимезис такого рода изображения в демонстрационном поле Кабакова как поле личного
результативного контекста понятен и неоднократно отрефлектирован им самим: не вылезай в центр, задавят! Приблизительно тот же самый мотив и мимезис, что и в “Современной идиллии” Салтыкова-Щедрина. Но возникает вопрос: откуда взялась именно такая предметность его работ, такая форма? Обычно художник отвечает: интуитивно, озарило и т.п. То есть сфера формообразования (для авангардиста), мотив предметности всегда сакрален и коренится в таких понятиях, как талант, дар и т.п.
Достаточно широкий, панорамный взгляд нашего дискурса, а главное - жанр критического вымысла и необязательность постулируемых умозаключений, позволяет нам обнаружить (разумеется, при сильных допусках), где “коренится” мотив предметности художника, который сделал свое демонстрационное поле абсолютно прозрачным для экспозиционного поля, то есть позволяет нам обнаружить его “сакрального” инспиратора, по отношению к которому он выстраивал свой онтологический (формальный) мимезис.
Этот “сакральный” инспиратор (фотографии которого войдут в предметный ряд нашего дискурса как автономного концептуального произведения “Земляные работы”) вполне может быть обнаружен напротив “Дома России”, т.е. напротив мастерской Кабакова, на углу Сретенского бульвара и Уланского переулка. Он представляет собой
историю строительства здания какого-то института или учреждения. История строительства довольна необычна. По словам Кабакова, это здание, по форме очень напоминающее фигуру сидящего кондора с опущенными крыльями, строили лет 20 (с 1968 года), причем лет 15 возились с ямой и фундаментом: грунт оказался рыхлым, сваи проваливались в землю, в яме скапливалась вода, железные рамы ржавели, одним словом лет пятнадцать за забором на углу Сретенского и Уланского зияла отвратительная яма, наполненная ржавыми металлическими сваями, прутьями и водой, которую и созерцал Кабаков из окна своей мастерской, оформляя детские книжки. Стол, за которым он это делает, стоит как раз возле окна, откуда видно это место. Одновременно с тем, как архитекторы, инженеры, прорабы и строители возились вокруг этой ямы, вокруг этих свай и железных соединительных рам фундамента, Кабаков работал над своими рамами и фонами - цикл альбомов “Десять персонажей”, картина “Бердянская коса” и т.п., т.е. над работами,
предметная художественность которых воплощалась через раму и фон: разрабатывалась очень сложная система рам, рамок и фонов, которые, в сущности, и были предметом рассмотрения этих работ как концептуальных с точки зрения их эстетической автономии (т.е. вне инструментальных контекстов). Приблизительно в это же время на большие белые щиты переносились рисунки из альбомов, в частности - три щита “По краю” (с изображением гуцулов и телег).
Наконец, к концу семидесятых годов фундамент был закончен и
здание-“кондор” напротив его мастерской начало строиться. Одновременно с началом стройки у Кабакова на его пустых белых щитах стали проступать разного рода схемы и расписания, сделанные как бы от лица некоего жэковского художника. То есть когда на экспозиционном знаковом поле, где находился кабаковский “сакральный” инспиратор шла возня вокруг ямы, то и Кабаков делал очень экзистенциально-напряженные, направленные
“внутрь”, в глубину (в инсайте - “вверх”, “в небеса”) работы - вспомним его “Небо-1”, “Небо-2”, “Меон” и все выше, выше до полного исчезновения слов, изображения и даже самих рамок в пустом белом пространстве (альбомы “Десять персонажей”). Но как только кабаковский инспиратор стал подниматься вверх - начали строить само здание института - Кабаков стал делать “чужие”, “внешние” работы (в инсайте - “низовые”), причем сначала это были просто сетки с надписями - “Собакин”, “Расписание выноса помойного ведра”, а потом, когда на его инспираторе приступили к отделочным работам, у Кабакова появились и цветные щиты - соцреалистический реди-мейд. Я помню, написав первые шесть щитов этой серии, он сказал мне при одном из моих последних посещений его мастерской: “У меня все абсолютно изменилось, полная экстраверсия, я могу теперь писать все, что угодно”.
Таким образом, хронологически вполне можно усмотреть мотивационную связь, даже полную миметичность между строительством кабаковского инспиратора (поэтапными изменениями предметности на экспозиционном знаковом поле) и формальными, структурными изменениями на демонстрационном знаковом поле Кабакова. То есть можно говорить о том, что предметность структур демонстрационного поля концептуального произведения (в случае его полной “прозрачности” для мотивационного контекста экспозиционного знакового поля) опосредована конкретной предметностью земляных и строительных работ на экспозиционном поле - через тот или иной “сакральный” инспиратор.
Интересно, что в то время, когда стали “прорубать” Кировский проспект, также видный из окна его мастерской, Кабаков как раз начал работать со своими “веревками” (веревка как “дорога”; кроме того, мусор, подвешенный на веревках, в нашем контексте интерпретации может быть понят как аналог тех домов со всей их коммунальной грязью, которые ломали во время прорубания Кировского проспекта, а надписи к этому мусору, включая и работу “Ящик”, - как вопль выбрасываемых- или крики тех, кто из выбрасывает- уничтожаемых и ненужных уже вещей из этих домов).
Историю строительства Кировского проспекта тоже можно рассматривать как инспиратор для Кабакова, для становления его жанра “веревок”. Интересно, что, когда проспект был закончен - одновременно была закончена и крыша - в виде головы кондора - на институте на углу Сретенского и Уланского, Кабаков довольно быстро создал свою инсталляцию “Золотая подземная река”, которую сам он оценивает не как напряженно-экзистенциальную, а как чисто культурную работу.
Итак, сделав свое демонстрационное поле абсолютно прозрачным для мотивационного контекста экспозиционного знакового поля, Кабаков получил неожиданно мощный эстетический эффект на уровне формальных структур: сквозь его работы как бы проступили те структурные изменения, которые
на самом деле происходили на экспозиционном (государственном) знаковом поле. И в этом смысле Кабакова можно назвать “государственным” художником, то есть художником, отражающим, а не украшающим структурные, глубинные процессы, происходящие на экспозиционном знаковом поле, валентно-синергетическом по отношению к экономическим и политическим событиям и мотивам. Причем следует иметь в виду, что власть знаков этого валентного поля неизмеримо превышает власть знаков демонстрационного поля, так как вся знаковая система экспозиционного поля строится и меняется под влиянием власти вещей, под воздействием жизненной необходимости: в ее строительство задействовано огромное количество людей и организаций - вплоть до самых высших правительственных инстанций.
Вполне возможно, что именно “государственный” характер его работ с выявленными мотивами экспозиционного контекста определил место и успех его работ на Западе: государственные музеи. В то время как место и успех работ Комара и Меламида - частные галереи (во всяком случае, в рассматриваемый нами период), хотя, казалось бы,
результативные контексты их демонстрационного поля ярче, нагляднее таковых же контекстов работ Кабакова.
То есть можно сказать, что опредмеченный в формальных структурах мотивационный контекст является в каком-то смысле “онтологическим” (или просто более “добротным”, “глубоким”) по отношению к результативному контексту, с которым обычно имеет дело и художник, и зритель.
Тот же мотив экспозиционной предметности (земляные и строительные работы) можно легко обнаружить и в истории “Коллективных действий”. Но если Кабаков работал с архетипом “дом” и “дорога” (то есть с советской городской коммунальностью), то
КД, проводя свои акции за городом, на экспозиционных знаковых полях, принадлежащих колхозам, работали с архетипом “еда”, “пища”, и - через интерпретацию своих акций (
но не через их событийность!) - выявляли экспозиционные структуры советского агропромышленного комплекса как “пустого действия” (в метафорическом смысле как малорезультативного и пустого дела с экономической точки зрения).
Основным “сакральным” инспиратором, формообразующим структурную предметность наших загородный акций - копание ям и т.п. (кроме, разумеется, сельскохозяйственной выставки, рядом с которой живем мы с Панитковым) - была также история очень длительного и мучительного рытья какого-то колодца необычайной глубины
на пригорке возле кинотеатра “Космос”, мимо которого я каждый день с 1976 по 1980 год ходил на троллейбусную остановку, чтобы ехать на службу в Литературный музей. Все эти четыре года на пригорке велись земляные работы. Причем никто толком не знал, что это такое. По охвату работ - вокруг места рытья было наставлено множество строительных вагончиков, над ямой возведена высокая крыша, сама яма была огорожена забором и во время работ, которые велись и днем и ночью, использовалась какая-то роскошная иностранная техника, подъемные краны, морозильные агрегаты и т.д. - местные жители сначала предполагали, что строится второй выход станции метро “ВДНХ”. Но когда я однажды заглянул в эту яму, то обнаружил, что диаметром она не более шести метров, дна ее не видно (десятки метров в глубину) и к метро она явно никакого отношения не имеет. Потом выяснилось, что это какой-то временный ассенизационный колодец, через который на очень большой глубине устанавливали новые ассенизационные очистительные агрегаты для всего этого района - Звездный бульвар, улица Королева, вплоть до Останкино. И действительно, в те годы, особенно весной, вокруг кинотеатра “Космос” сильно пахло говном. Интересно, что после того, как работы были закончены (где-то к середине 80-ого года), на месте колодца не осталось ни следа, даже простой канализационной крышки.
Именно в годы строительства этого колодца мы ездили за город на Киевогорское поле и делали там акции с выкапыванием ям (
“Комедия”,
“Третий вариант”,
“Место действия” и т.д.), и где-то в 79 году, после акции “Место действия” - как раз ко времени окончания строительства новой ассенизационной системы и началу работ по ликвидации колодца, - я сформулировал теорию “пустого действия” как внедемонстрационного этапа протекания акции на демонстрационном поле. А в 80-ом году, когда работы по засыпанию колодца были закончены, в
предисловии к первому тому “Поездок за город” я впервые ввел понятие “демонстрационное поле” и определил некоторые его зоны (разумеется, тогда я не усматривал никакой связи между рытьем ямы и своим теоретизированием).
Наш инспиратор оказался более сложным, чем инспиратор Кабакова, так как он был лишен внешней наглядности (строительство происходило под землей, колодец был потом засыпан, бесследно исчез, впрочем, вонять вокруг к/т “Космос” не перестало - так что вся эта возня с колодцем тоже оказалась “пустым действием”).
Лишенный предметной опоры своего инспиратора (все это, конечно, на бессознательном уровне) где-то в начале 81 года я стал “копать яму” внутри себя, почувствовав жанровый кризис эстетических инсайтов на Киевогорском поле (после акции
“Десять появлений”), пошел в православную аскезу и в конце 81 года сошел с ума. Однако где-то через год я пришел в себя, и мы опять стали заниматься акциями, но уже делая акцент не на событийности, а на фактографии и документации (акция и слайд-фильм
“Звуковые перспективы поездки за город” и вообще акции второго тома “Поездок”).
После своего сумасшествия, лишенный бессознательной, но наглядной опоры какого-либо предметного инспиратора на реальном экспозиционном поле я стал делать акции как бы на “небесах” (особенно это касается
акции “М” из третьего тома, “небесность” которой подчеркнул
Э. Булатов в своем
рассказе “Золотой день”). То есть в отличие от Кабакова, который (бессознательно) все время “опирался“ на свой инспиратор (строительство его, впрочем, тоже уже подходило к концу), у
КД в тот период практически не было никакого инспиратора и мотивационность наших акций сильно ослабла, мы занимались, в основном, фактографическими и звуковыми структурами, т.е. результативными контекстами. Первоначальный же период, до моего сумасшествия, когда под воздействием “сакрального” инспиратора мы работали на мотивационном контексте (“государственном”), выявляя - через интерпретацию - систему советского агропрома как “пустого действия” (ведь наши акции проводились на колхозном, государственном поле) - наши структуры были также “прозрачны” по отношению к экспозиционному знаковому полю и мотивационно очень напряжены. Что было сразу же почувствовано на Западе: именно этот цикл загородныõ акций был опубликован Ф. Ингольдом в швейцарском журнале “Кунст Нахрихтен” (1980) - журнале академическом, “музейном” и в каком-то смысле “государственном”. В этих акциях и автор статьи, и издатель журнала почувствовали (но не осознанно) их государственную миметичность, т.е. что они отражают реальное положение дел на экспозиционном знаковом поле региона (“пустотность” советского агропрома, хотя такой прямой рефлексии не было ни в наших интерпретациях, ни в статье Ингольда - все это было очень сильно опосредовано эстетически автономной рефлексией, но структуры были достаточно наглядны и говорили сами за себя: например,
акция “Время действия” с полуторочасовым вытягиванием семикилометровой веревки с пустым концом на колхозном поле, кроме своего “дзенского” содержания, имела и очевидно социально-метафорическое значение, которого никто тогда не понимал, включая и авторов, так как совершенно не учитывался экспозиционный контекст, т.е. то, что акция проводилась на советском колхозном поле, где картошки сажают много, а в магазины ее попадает мало и качество ее известно).
В 1984 году разрыли всю улицу Кондратюка (прокладывали водопроводные трубы к строящемуся напротив моего дома зданию) - и я опять почувствовал прилив сил и провел - совместно с Ромашко и Сабиной - серию домашних акций “Перспективы речевого пространства”. “Сакральным” инспиратором этих акций, как я теперь понимаю, были земляные работы по прокладке подземных коммуникаций и строительство жилого дома напротив. Вероятно, именно потому, что на этот раз строился
жилой дом, мне и приходили в голову структуры домашних (а не загородных) акций. Впрочем, к тому времени я уже почувствовал какую-то связь между тем, что происходит на улице у меня за окном и тем, что происходит в моей голове (замыслы акций), о чем и написал в эссе
“Инженер Вассер и инженер Лихт”. Но тогда все это еще было на бессознательном уровне, хотя начало работы с
осознанной шизофренической синдроматикой относится как раз к тому периоду.
И только после акции “Партитура” и актуализации проблемы контекста в концептуальном искусстве (в нашем с Бакштейном диалоге “ТСО или черные дыры концептуализма”, помещенном в сборнике МАНИ “Динг ан зихь”) мне удалось перевести эту синдроматику в плоскость эстетической автономии. У меня возникла концепция экспозиционного знакового поля как поля мотивационных контекстов, которая позволила посмотреть более общим, отстраненным взглядом на текстовую предметность концептуального дискурса, развертывающуюся не через инструментальность контекста, а рассматривающую его онтологию и порождающую свою особую художественность (“инспираторы”).
С психологической (или психиатрической) точки зрения не трудно понять, почему земляные и строительные работы активизируют творческую деятельность художников-концептуалистов (разумеется, эта связь актуальна и интересна только для тех художников, чьи демонстрационные знаковые поля “прозрачны” по отношению к экспозиционному полю), если эти работы проводятся рядом с местом, где они живут. Панитков, например, придумал акции
“Изображение ромба”,
“Выстрел”,
“Ворот” и
“Ботинки” как раз в то время, когда у него раскопали весь двор, прокладывая под его домом какие-то трубы (как обычно, такие работы у нас ведутся не один год).
Бывают еще более дальние, опосредованные связи между концептуалистом и его “инспиратором” (правда, здесь мы уже делаем совсем широкие шизоаналитические допуски). Когда я рассказал недавно В.Сорокину свою концепцию об инспираторах, он вспомнил, что стал писать свои тексты в то время, когда начали строить его кооператив в Ясенево, причем его дом входит в комплекс трех жилых домов (построенных в виде трех параллельных полукружий), школы и магазина, которые все вместе - как недавно сказал ему его знакомый - сверху выглядят как четыре буквы “СССР”. Вполне можно усмотреть связь между невероятно долгим (более десяти лет) строительством одного только фундамента музея Дарвина и концептуальной деятельностью
Н. Алексеева и М. Рошаля - их дома находятся рядом с этим местом.
Но есть еще и такая степень опосредованной связи между системами “инспираторов”, например, “опредмечивающих” культурные и экзистенциальные отношения советских и иностранных концептуалистов с “прозрачными” демонстрационными полями (в каком-то смысле речь идет просто о наглядности “свинчивания” одной культуры с другой, о чем я писал в эссе
“С колесом в голове”), при которой предметность экспозиционного поля обнаруживается (может быть усмотрена в жанре критического вымысла) как
результативный контекст нескольких демонстрационных полей - разумеется, при условии, если читатель хорошо знаком с произведениями, о которых идет речь. Эта предметность и является “Земляными работами” - автономным концептуальным произведением в виде прилагаемого нами ниже фотомаршрута от ВДНХ до Тургеневской площади. С другой стороны, все эти переходы, ассенизационные надземные сооружения, эстакады и т.п. можно рассматривать и просто как отдельные достопримечательности московских пейзажей (а не знаковые концептуальные ракурсы), где я люблю прогуливаться и мимо которых мы прогуливались недавно вместе с Сабиной поздним декабрьским вечером.
январь 1987 г.
* * *
Следующий за этим текстом ряд фотографий представляет собой изображения различных “сакральных” инспираторов, связанных единым мотивом, который можно назвать “Мотив павлина и кондора на экспозиционном знаковом поле г. Москвы”. Еще раз хочется отметить, что сюжет этого фоторяда опирается на результативные контексты следующих фрагментов и произведений:
76-ая глава романа У ЧЕН ЭНЯ “Путешествие на запад”
(эпизод о Будде, павлине и кондоре-оборотне: павильоны ВДНХ -
“советский павлин”, кондор - кабаковский инспиратор на
Тургеневской площади в виде здания-“кондора”).
Перформансы “Коллективных действий”.
Творчество В.Сорокина (“путем говна” - фото наземных
ассенизационных(?) сооружений).
И ЦЗИН (станция м. “Щербаковская”, ротонда которой расположена
в центре триграммы “Земля”, образованной шестью жилыми
зданиями).
Работа В.Янкилевского “Квартира # 48”
Творчество И.Кабакова
Необыкновенные жизненные и фотографические приключения А. М. и
C. Х., происходившие в Москве и Руре в 1984-1986 г.г.
---------------
Список фотографий
0 – 000. Три эпиграфические фотографии земляных и строительных
работ.
1. Ассенизационное (?) сооружение напротив Южного вхлда ВДНХ.
2. Ассенизационное (?) сооружение в конце улицы Цандера.
3. Жилой дом на углу ул. Цандера и ул. Кондратюка. “Инспиратор” домашних перформансов КД.
4. Место возле к/т “Космос” (начало улицы Кондратюка), где находился
“инспиратор” КД 1976 – 1980 гг.
5. Станция метро “Щербаковская” (ныне “Алексеевская”).
6. Подземный переход на ул. Лобачека (бывшая “Проезжая”; я жил на
этой улице приблизительно с 1956 по 1960 год).
7. Выход из подземного перехода на ул. Лобачека.
8. Бетономешалка (?) на строительной площадке между ул. Лобачека
и Русаковской улицей.
9. Эстакада над Русаковской улицей.
10. Под эстакадой.
11. Вид с Русаковской улицы на площадь трех вокзалов и Кировский
проспект (ныне- проспект ак. Сахарова), упирающийся в “Дом
России”, в котором находится мастерская Кабакова.
12. Здание-“кондор” на Тургеневской площади (“инспиратор” Кабакова).
13. Вид на здание-“кондор” со Сретенского бульвара.
14. Вид на здание-“кондор” из окна мастреской Кабакова.
15. Здание какого-то еще неоткрытого ведомства (предполагалось, что
военного) на Тургеневской пл. рядом со зданием-“кондором”.
15 марта 1987 г.
( А. М. при участии Е. Елагиной).